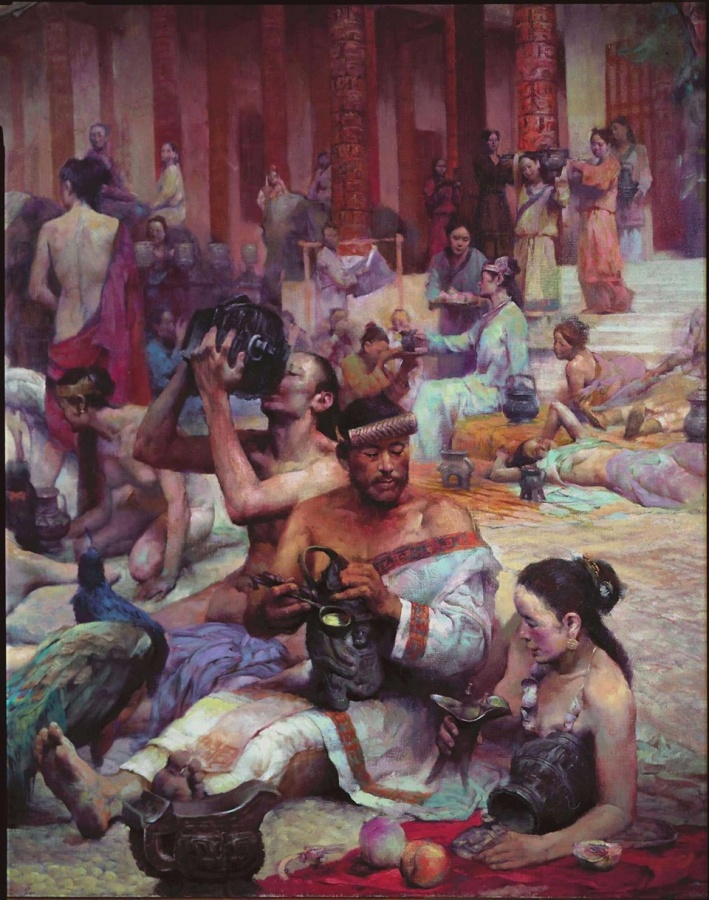Атмосфера скорбного места, где Яковлев провел большую часть жизни, ужасная
палата в психоинтернате, на восемь обреченных на пожизненное пребывание человек
не могли оставить равнодушным.
Многие из пациентов были совершенными «овощами», не осознавали происходящего
и ни на что не реагировали, другие, наоборот, были излишне возбуждены, и их фигуры
постоянно мелькали в коридоре.
Отделение, в котором содержался Яковлев, предназначалось для тяжелобольных. Володя же,
в отличие от своих соседей, был абсолютно адекватен и очень обаятелен. Он вообще был
добрым человеком: раздавал больным принесенные нами папиросы и конфеты.
"О Володе Яковлеве я впервые услышал от Саши Харитонова. Привел как-то вечером к нему домой кого-то из своих приятелей. Сидим, выпиваем, обмениваемся информацией. Кто-то спросил у Саши, не преследует ли его органы.
Харитонов вдруг нахмурился и говорит:
— Да бог с ними, с органами. Что поделаешь, если у них такая работа. Ужас, когда собственные родители ведут себя хуже, чем КГБ.
Он встал, вышел в соседнюю комнату, где жила его мать, и принес ученическую тетрадь для рисования, в которой на каждом листе цветными карандашами были нарисованы наивные, но до судорог искренние и трогательные цветы. Все сидевшие за столом как-то сразу, не сговариваясь, поняли, что за рисунками стоит какая-то тайна или драма. Мы благоговейно их разглядывали. Наступила в полном смысле слова мистическая тишина.
— Все, что вы видите, нарисовано в туалете, — прервал наше молчание Саша. — Когда он чувствует, что больше не может не рисовать, то просит у родителей разрешения пойти по нужде, и после того, как они проверят, не берет ли он с собой бумагу и карандаши, он там запирается, достает из ниши с канализационными трубами заранее припрятанные карандаши и бумагу и рисует до тех пор, пока родители не начинают стучать и орать, что если он немедленно не выйдет, они отправят его в психушку. Так что нам со Зверевым еще повезло — в отличие от Володи Яковлева. Не дай Бог кому-нибудь такой судьбы.
— За что они так ненавидят своего сына? — поинтересовались мы.
— Его родители жили в Балахне, неподалеку от Горького. Потом папочка сделал партийную карьеру и его со всей семьей перевели в Москву. Он теперь высокопоставленный деятель. Но у него родился сын маленького роста и почти слепой. Володя с детства инвалид по зрению. Он почти ничего не видит. Когда рисует, то подносит бумагу вплотную к глазам. Кстати, я познакомился с ним в 1957 году, в фестивальном павильоне художников в Парке Горького. Он туда приходил каждый день и заразился страстью к рисованию. Но родители считают, что «неполноценный» сын их компрометирует, а особенно его «неправильные», а значит антисоветские рисунки, и вымещают на нем злобу. Если честно, то дома они его практически не держат, а отправляют на целые месяцы в сумасшедший дом. Зато там врачи разрешают ему рисовать. Правда, надо, чтобы кто-нибудь постоянно приносил ему бумагу и карандаши.
С тех пор я стал слышать о Яковлеве все чаще. В начале шестидесятых круг «неофициальных» художников постоянно расширялся. Становились известными все новые имена. К счастью для Володи, его рисунки попали к Василию Яковлевичу Ситникову —художнику с внешностью и образом жизни Распутина, который активнее других общался с западными дипломатами и считался среди них непревзойденным эталоном русского китча. Кому-то из них он продал рисунок Яковлева. Постепенно у Володи появились поклонники из числа собирателей неофициального искусства. Его стали навещать в больнице — в том числе и известные люди вроде модного в то время композитора Андрея Волконского. Он-то и устроил у себя на квартире первую выставку Владимира Яковлева. Вторая состоялась в 1966 году в «официальном» зале Союза художников (совместно с Эдуардом Штейнбергом) и длилась всего один вечер. Такая уж тогда была договоренность с властями — если что-то авангардистское, то только на один вечер. Зато собирались толпы ценителей, которые предварительно обзванивали друг друга по телефону.
Родители, почувствовав интерес к своему сыну со стороны влиятельных людей, попытались продемонстрировать, что они о нем заботятся, и ненадолго устроили его на работу курьером в издательство «Искусство». Тогда же и возник слух, что Володя — внук русского импрессиониста Михаила Яковлева, но точных подтверждений ему нет. В конце концов отец Яковлева попал в непростую ситуацию. С одной стороны, вокруг сына стали крутиться иностранцы и «антисоветчики», с чем он никак не мог смириться, потому что нависла угроза для его партийной карьеры. С другой — «цветочки» сына стали все чаще продаваться, причем за валюту, потому что основными покупателями были иностранцы.
Врачи психушек, где лежал Яковлев, тоже вскоре поняли, что к чему. Оказывается, их «больной»
настоящий клад, источник бесконечного обогащения, и за малейшие послабления в режиме требовали
с него рисунки, которые тут же впаривали навещавшим художника иностранцам. Установилась даже такса.
Каждый, кто приходил к Володе, чтобы принести ему краски и забрать работы, должен был «отстегнуть»
три картины из десяти. Иначе пациенту вполне могли бы запретить рисовать на том основании,
что творческий процесс негативно сказывается на его психике.
Вообще Володя Яковлев постоянно находился в состоянии молчаливой погруженности в самого себя,
отрешенности от мира. Чтобы вытянуть из него слово, нужно было приложить немало усилий.
В самом начале перестройки один за другим умерли его родители. Ухаживать за слепым инвалидом стало некому.
Квартиру отобрало государство, а Володю уже навсегда поместили в какой-то психоневрологический интернат
на окраине Москвы. Я пару раз сопровождал к нему, чтобы показать дорогу, иностранцев, которые хотели
осчастливить его чем-нибудь вкусным. Каждый приезд неизменно вызывал у администрации интерната переполох.
Для начала они все дружно галдели, требуя поделиться с ними тем, что мы хотим передать. И только потом нас впускали.
— Вы уж нас поймите, у нас уборщиц нет, мы палату днем запираем, чтоб не мусорили, больные у нас обычно
проводят свободное время в туалете, там все условия, раковины, унитазы, все кафельное, — тараторила
очередная «врачиха», отпирая ключом дверь общественного сортира.
В духоте, среди сигаретного дыма, прямо на кафельном полу сидели человек пятьдесят «больных». Володя в одной
казенной пижаме, надетой на голое тело, лежал на том же голом кафеле возле унитаза и крепко спал, подложив
под голову ладонь.
— По такому случаю я уж для вас палату открою, — тараторила врачиха, впуская нас в огромное помещение
с кроватями. — Сидите, общайтесь на здоровье. Вот Володина койка.
Яковлев безучастно сел. Иностранная дама объяснила ему, что хочет оставить ему продукты, и стала выкладыват
ь из пакетов на кровать всякую еду. Увидев батон колбасы, Володя взял его, откусил кусок и стал равнодушно жевать.
— Давай куда-нибудь все спрячем, — предложил я ему.
— Прятать некуда. Надо сразу все съесть. Потом будет поздно, — объяснил Яковлев тихим и бесстрастным голосом.
Мы попытались спросить его, имеет ли он возможность рисовать, но он не отвечал, полностью уйдя в жевание колбасы.
— Вы идите, а мы найдем, куда все положить. Вы не думайте, у нас и холодильник есть. А рисовать у него
что-то в последнее время нет настроения, — заторопила нас врачиха.
Мои спутники и сами были рады покинуть мрачное место, явно жалея, что вообще сюда приехали.
Московский историк современного искусства и в полном смысле слова подвижница Наталья Шмелькова в те годы
попыталась сделать невозможное — вернуть Яковлеву зрение. Она на время забрала его из интерната, сняла
двухместную палату в клинике офтальмолога Федорова и поселилась там вместе с ним. Ему сделали
несколько операций. Видеть он стал лучше, снова пытался рисовать, охотно и подолгу разговаривал
с Наташей. Кстати, о периоде пребывания в клинике она подробно написала в своей книге «Во чреве мачехи».